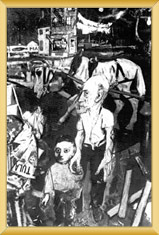Главная > Гостиная > Презентация книги Александра Кирноса "Мидреш"
МИДРЕШ
ЛИРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ В СТИХАХ И ПРОЗЕ
15
Дедушка Нехемья, воплощение доброты и терпения
(кстати, тоже в полном соответствии со своим именем), вырастивший четверых
детей в любви и уважении друг к другу, не пытался противостоять времени, и его
дети в синагогу уже не ходили и Тору не изучали.
Правда, женились сыновья на еврейках, но выросли
атеистами и коммунистами. Все воевали с фашистами. Старший сын – Давид, пропал
без вести, средний – Ефим, стал моим отцом. Младший – Лёва, кадровый военный,
сохранил в семье имя погибшего брата, назвав Давидом своего родившегося после
войны сына. Дочь дедушки, Мирьям, стала Манечкой – Маней – Марией.
Они не скрывали и не стыдились своей национальности,
но вместо Торы изучали Сталинский "Краткий курс ВКП(б)", который тоже
был разбит на недельные главы, и каждый год его изучение возобновлялось с
первой главы. Идиш постепенно утрачивался, даже советская еврейская культура
оказалась проявлением буржуазного национализма, и только шёпотом при плотно
закрытых дверях изредка произносились имя Михоэлса.
Адаптация началась ещё тогда, в первую четверть века
и дети дедушки стали уже не Нехемьевичами, а Наумовичами. Но не пустыми словами
оказались заслуги отцов.
16
«Этот праздник со
слезами на глазах…»
Мой отец пропахал всю войну
преимущественно в глубину,
в землю по бескозырку вгрызался,
чтобы в артналёт уцелеть,
он, наверное, очень старался,
чтоб прошла, не заметив, смерть.
Он морпехом был, а морпехам
умирать на земле не к спеху,
западло, коль завалит глиной,
но однажды осколок минный
его сидор тощий пробил
и чуть до смерти не убил.
Он вернулся, а я уже был,
я его поначалу боялся,
хотя он не кричал, не дрался,
лишь зубами порой скрежетал,
если бы не этот металл,
я бы раньше его полюбил.
Не тогда, когда сам стал отцом,
когда понял, как он безмерно
уставал. С посеревшим лицом
он в палате лежал больничной,
было всё безнадёжно, скверно,
жить ему оставалось два дня.
Он открыл глаза, – Всё отлично,
– прошептал, ободряя меня.
Умер он девятого мая,
за окном расцветала сирень,
до сих пор я не понимаю,
что я чувствую в этот день.
На пять лет я уже дольше прожил,
вновь сирень цветёт за окном,
но с годами он старше и строже,
а я рядом стою – пацаном.
… Истинно Вам говорю: война – сестра печали, горька
вода от слёз в колодцах её. Враг вырастил мощных коней, колесницы его быстры,
воины умеют убивать. Города падают перед ним ниц, как шатры перед лицом бури.…
И зачавший не увидит родившегося, и смеявшийся утром возрыдает к ночи…, и
многие из Вас не вернутся под сень кровли своей. Но идите. Ибо кто, кроме Вас
оградит землю эту.
Строки из книги Вадима Шефнера, прочитанные в юности,
поразили меня пронзительным совпадением с моим собственным отношением к войне и
судьбе поколения, к которому принадлежал мой отец.
Фройчик – Фроим – Эфраим – Ефим. Он ушёл на фронт в
конце июля 1941г. Я родился в августе 1941 г. Впервые мы увиделись в феврале 1945г.,
когда его часть перебрасывали из Чехословакии на Дальний Восток. Эшелон шёл
через Москву и остановился в Кусково, а мы в то время жили у дедушки в Перово.
Это совсем рядом, всего пару километров, но уйти нельзя, эшелон могли отправить
в любую минуту.
Отец упросил женщину – милиционера, и она нашла нас
глухой ночью в неосвещённом городе. Помню большую, пахнущую морозом, скрипящую
ремнями тётку с зычным мужским голосом. Помню мгновенный испуг и быстрые сборы
мамы, меня одели и по очереди, задыхаясь, несли по заснеженным улицам.
Станция была забита воинскими эшелонами. Я до сих пор
не могу понять, как можно было кого-нибудь найти в этом человеческом
муравейнике. Мы ныряли под вагоны, бежали по рельсам. Метель прорезали фонарные
всполохи из раскрытых теплушек.
Гомон множества голосов, лязг буферов, свистки
паровозов сливались в хаотичный гул. Мама отчаялась, а наша спутница
остановилась и заговорила о чём-то с солдатами в теплушке.
И вдруг, перекрывая шум, вдоль состава понеслась
слаженная волна звуков, из которой вылепилось знакомое имя: Е-фим, Е-фим,
Е-фим…
Солдаты передавали меня друг другу, гладили и
целовали, и все говорили: сынок, сынок.… Наконец, я оказался в какой-то
теплушке, и меня стали поить кипятком с сахаром. Правда, к кусочкам сахара
прилипли крошки махорки, но всё равно это был самый настоящий сахар. Кто мой
папа, я понял только тогда, когда солдата, держащего меня на руках, обняла моя
мама.
17
– Все мы вышли из нашего детства, – заметил Антуан де
Сент Экзюпири, писатель и лётчик, погибший во время войны.
Эта ночь в декабре 45 г. навсегда запала мне в
душу. И не только первой встречей с отцом, я тогда и не разглядел его как
следует, а ощущением единения, братства всех людей. Вокруг были родные, близкие
люди, и запахи шинелей, махорки, сапог неразрывно связались с улыбками,
радостью, любовью.
Гораздо позже я услышал, что есть люди разных
национальностей. Оказалось, что евреем почему-то быть нехорошо, стыдно. Ребята
во дворе говорили, что евреи трусливые, что они все во время войны прятались в
Ташкенте, но я знал, что это ложь.
Старший брат моего отца, рядовой Давид Кирнос, пропал
без вести в 41г. Жена Рахиль ждала его до последнего своего дня.
Выпускник Омского пехотного училища, младший брат
отца, капитан Лев Кирнос, в 1944
г. отказался положить свой родной батальон сибиряков в
лобовой атаке на безымянную высотку под Львовом. Дождался темноты и взял её
обходным маневром, практически без потерь. Знал, чем грозит невыполнение
приказа, но не хотел и не мог бессмысленно жертвовать людьми.
Брат моей матери, Михаил Дреш, авиационный механик,
прошёл войну от Кавказа до Вислы.
А мужья сестёр
моей мамы!
Дядя Саша (Авраам) Кильман, кавалерист в корпусе
Белова, провёл в седле все четыре военных года, закончил войну майором. После
войны добился, чтобы именем друга его юности, лейтенанта Лазаря Паперника,
командира диверсионного отряда, погибшего в битве за Москву, была названа одна
из улиц столицы.
Дядя Шулька, (Шмуль – Герш) Киржнер, рядовой
инженерных войск, вышел живым из Харьковского котла и воевал в Сталинграде. Его
первая жена с двумя детьми погибла в Судилковском гетто.
Дядя Нюня, (Шмуль) Зокенмахер, рядовой десантной
бригады, воевал с 41 по 45 г.
И это я перечислил только самых близких. А были ещё
двоюродные дяди, дальние родственники и друзья. Все они воевали с первых дней,
все были ранены, а многие не один раз, а те, кто уцелел, вернулись домой в 45 –
46 г. и в 47 г. появилось новое послевоенное поколение, мои братья и сёстры.
18
Аты-баты, шли солдаты,
шли солдаты на войну,
так могли идти мы с братом,
вслушиваясь в тишину.
Вслушиваясь, вспоминая,
папа, мама, ось земная,
и, качаясь на оси,
там деревня, здесь местечко,
и трепещет жизнь, как свечка…
Сохрани нас и спаси.
Мой отец, старший матрос отдельной бригады морской
пехоты, начал войну под Мурманском, сражался за Киркинес, был тяжело ранен под
Кенигсбергом. Он был демобилизован только в 46 году из бухты Провидения,
что на Чукотке. Он родился десятого мая 1910 года, а умер девятого мая 1974-го. и я, не
очень склонный к мистическому постижению мира, почти тридцать лет прослуживший
в армии, чувствую в этих датах глубокую символику. Отец был человеком доброго
ума и верного, щедрого сердца. Он был воином, защитником жизни и уже, будучи
безнадёжно больным, до конца сражался со смертью и дожил до последнего своего
дня Победы.
Для меня, как и для миллионов других людей, в этом
дне воедино слились радость и горе, боль и надежда. Почти все мои близкие,
воины Второй Мировой, уже ушли из жизни. Они были обычными людьми: работали,
любили, воевали, снова работали, растили детей. О войне и о себе на войне
рассказывать не любили. За них говорили награды: медали «За отвагу, За боевые
заслуги», ордена «Славы и Красной Звезды».
Простые люди, когда потребовалась их личная
причастность в борьбе Добра со Злом, они оказались достойными сыновьями своего
народа. Воля и мужество, терпение и любовь, служение созиданию и справедливости
обусловили их вклад в Историю, подняли их личные судьбы из плоскости быта в
вертикаль Бытия.
Виктор Франкл, сам прошедший через нацистские
концлагеря, говорил о поколении трагического оптимизма. Трагического, потому
что люди этого поколения видели, что очень часто зло вне человека или в
человеке оказывается сильнее или даже предпочтительнее для него. Оптимизма,
потому что они сохранили веру в возможности человека, лучшее в нём.
Прошло много лет, и, познакомившись с еврейской
историей, я стал понимать истоки их мужества и природу трагического оптимизма,
свойственного евреям всех поколений, сохранивших связь с традицией.
19
В положенный срок я «поступил в пионеры», и своего
старшего сына назвал Кириллом; очень хотелось сохранить память о дедушке Киве,
но назвать его так я не решился, ведь и сыну надо было «поступать в пионеры». И
только через двадцать лет сам Кирилл изменил своё имя и судьбу, сделав
обрезание и получив имя Акива. А замкнулся круг ещё через несколько лет, когда,
познакомившись с учением рабби Нахмана, он принял второе имя Нахман (Нехемья),
тем самым, зафиксировав единство двух потоков: Дрешей и Кирносов. Но имя,
данное ему при рождении, имя создателя славянской письменности, по-видимому,
повлияло на принадлежность Кирилла к пространству русского языка. В шестнадцать
лет он начал писать стихи, в которых музыка русской речи аранжировала мелодию
еврейской тоски по идеалу:
В моих глазах
есть грусть тысячелетий,
Горячечный
невысказанный свет.
Еврейские
задумчивые дети,
С тоскою вечною
глядящие на свет.
По миру мы рассыпаны горстями,
То тут, то там
услышишь чей-то крик.
И непонятными
для всех гостями
Заброшены в
чудовищный пикник.
Здесь зависть,
злоба, пошлость хлещут пеной
И заливают
вечные глаза,
Но тем, кто
думает о всей вселенной
Так безразлична
мелкая гроза…
Так писал
Кирилл перед тем, как стать Акивой.
ИСТОКИ
Средь шума повседневной суеты,
Средь тошноты душевной маяты,
Рассеивая грёзы и мечты,
Вдруг прозвучит: Где ты?
Скажи, где ты?
Не рабби14
я, не цадик15,
не злодей.
Обычный, меж обычнейших людей.
И чаша жизни, терпкого вина,
Мной выпита уже почти до дна.
Я лгал себе, я время воровал,
Друзьям надежды тщетно подавал.
Ценил застолье, суету и лесть.
И прелестей иных не перечесть.
В оцепененье идолам служил,
Плыл по теченью и вполсилы жил.
Но всё же мне доверено хранить
Синайской16
клятвы трепетную нить.
Но помню я о Вере и Любви,
Но звуки Шма17
звучат в моей крови,
Но к правде оступаясь и греша
Стремится обнажённая душа.
Скользят века - опавшие листы.
Как в день шестой18,
звучит:
Адам, где ты?
Рукой прикроюсь, вздрогну на бегу.
Я прятался, но больше не могу.
1 | 2 | 3 | 4| 5| 6| 7
В Гостиную >